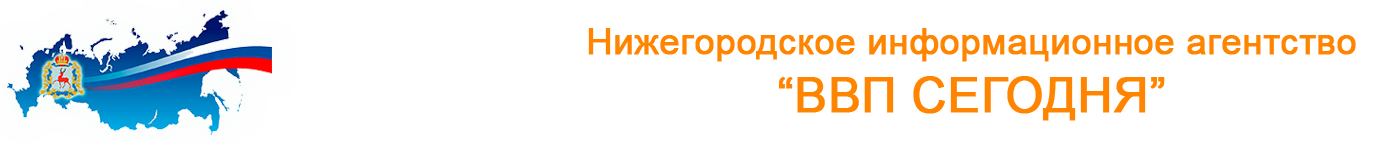Обращение к геопространственным теориям в системе международных отношений обусловлено несколькими факторами, главными из которых являются: 1) необходимость определения внешнеполитического вектора конкретных государств; 2) субъектная потребность в пространственном позиционировании отдельных стран или их групп в региональном или глобальном масштабе; 3) требование синхронизации изменений мирового распределения центров силы с потребностями реализации внешнеполитического курса в контексте имеющихся политических, военно-стратегических и экономических возможностей соответствующих государств или их объединений. В первой половине 90—х годов ХХ века характерной чертой мировой системы отношений после окончания холодной войны стали серьезные изменения политико-географической конфигурации значимых с точки зрения политики и экономики регионов.
Самороспуск СССР и образование на постсоветском пространстве новых независимых государств определили качественные трансформации во внешнем восприятии некогда входивших в него регионов, что, в свою очередь, стало причиной появления новых пространственно-политических концепций и теорий, призванных обеспечить в целостном системном виде внешнеполитические подходы конкретных государств к произошедшим изменениям. Со всей очевидностью вышесказанное относится к одному из важных секторов международной политики, каковым в силу естественных экономических и геостратегических причин быстро становился регион бывшей Советской Центральной Азии. Примечательным фактом являлась противоречивость, отмеченная уже с середины 70-х годов ХХ века в интерпретации концепции самого данного пространства.
Исторически сложившееся в русскоязычной советской традиции название региона «Средняя Азия и Казахстан» использовалось в СССР на протяжении периода 30-х – начала 90-х годов ХХ века в силу конкретной функциональной причины. Она заключалась в том, что ряд республик, расположенных в Азии и входивших в состав СССР (Киргизская, Таджикская, Туркменская и Узбекская) рассматривались как составляющие так называемого «среднеазиатского экономического района», в то время как Казахстан выделялся в отдельный экономический район. Обретение независимости этими республиками способствовало расширению среднеазиатского региона и переименованию его в центральноазиатский. Фактически это произошло на встрече глав государств СНГ в 1993 году.
Вторая версия, поддержанная официальными властями СССР, не видевшими в ней какой-либо враждебности, появилась в рамках международного просветительского проекта. Культурно-географическое пространство Центральной Азии в достаточно расширительном толковании было дано UNESCO в шеститомном издании «История Цивилизаций Центральной Азии», решение о работе над которым было принято еще на XIX сессии этой организации, проходившей в ноябре 1976 года в Найроби. Реализация проекта началась в 1981 году. В геопространственном отношении по версии UNESCO Центральная Азия включила Монголию, западную часть Китая, Тибет, северо-восточный Иран, территорию Кашмира, Афганистан, Пакистан, восточную часть России, южнее зоны тайги, советские республики Средней Азии, Уттар Прадеш, Харьяну, Химачал Прадеш, Пенджаб и Пакистан.
После 1991 года проблема пространственной интерпретации региональных границ в географическом отношении приобрела уже особое звучание. Значимость входящих в центральноазиатский регион государств для изменившейся системы международных отношений, их судьба как суверенных государств в политическом, экономическом и военно-стратегическом отношениях, — все это привлекло внимание политических и экспертных кругов в Европе, США и, разумеется, в соседних с регионом странах.
Обращение к теме выработки системного подхода на центрально-азиатском направлении внешней политики ведущих государств выявило уже в начале 90-х годов ХХ века доминирующую роль аналитического сообщества США в этом процессе. В определенной степени на развитие геопространственного подхода американских политических и экспертных кругов к выработке новых пространственных концептов повлиял объективный фактор развития американской внешнеполитической мысли в целом. Данная особенность была отмечена Р.Хаусманном, который, обращаясь к проблеме внешнеполитического планирования и исследованиям экономических проблем, заявил в 2000 году о том, что специалисты, занимающиеся вопросами развития, начиная с 50-х годов ХХ века, вслед за тем, как в Гарвардском Университете было максимально минимизировано изучение и преподавание географии, долгое время не обращали на эту дисциплину серьезного внимания.
На повестку дня именно американскими политологами был поставлен вопрос концептуализации геопространственной проекции региона, получившего в русскоязычной традиции название «Большой Центральной Азии», но имеющий и еще один смысловой перевод англо-американского аналога «Greater Central Asia» – «Великая Центральная Азия». Существование геополитической идеи центральноазиатского мегарегиона, однако, имеет более долгую историю, относясь к середине 90-х годов. В российской научной литературе по вопросам регионалистики этот термин активно использовался как полигеографами, так и представителями других наук.
Особенно активно тема расширительного толкования центрально-азиатского пространства обсуждалась представителями российской академической науки на востоке Российской Федерации. В соответствии с их точкой зрения, «центральноазиатский макрорегион, или Большая Центральная Азия, — одно из крупнейших поликультурных и полиэтнических образований, претерпевшее на протяжении веков многочисленные национально-государственные и международно-политические перестройки. Одним из его немногих системообразующих элементов стало распространение ислама, а также действие ряда геополитических факторов (буферное положение между мировыми империями нового и новейшего времени, экономгеографические параметры и других). Нынешняя Большая Центральная Азия (бывшие республики южного пояса СССР, северные регионы Ирана и Афганистана, Синьцзян, Монголия, а также южно-сибирские окраины России и часть Поволжья) формируется как один из центров мирового соперничества за природные ресурсы, солидный человеческий потенциал и выгодные торговые маршруты между Европой и Южной Азией, а также восточными анклавами АТР».
В то же время, что редко упоминается многими экспертами, практическая реализация сходной доктрины началась не со стороны США и их партнеров по евро-атлантическому сообществу, а, наоборот, в определенном смысле геостратегическими конкурентами евро-атлантики – Москвой и Пекином. Созданная в 1996 году при активном участии Российской Федерации и Китайской Народной Республики Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) включала практически большинство стран, являвшихся составными элементами геоконцепта «Большой Центральной Азии».
Дискуссионный характер как рекомендаций относительно наиболее приемлемого внешнеполитического курса США в регионе Центральной Азии, так и оценок перспектив посткоммунистического транзита, высказывавшихся в экспертно-аналитических материалах американских политологов, не свидетельствовал об окончательной структуризации геопространственной проекции БЦА в 90-х годах. Включение ее в состав различных версий концепта Большого Ближнего Востока не затрагивало важной проблемы верификации «самости» этого региона и удлиняло процесс формирования представления о нем как о реальном геополитическом и геостратегическом ядре.
Однако ситуация в системе международных отношений приобрела к осени 2001 года вполне конкретную форму. События 11 сентября в США, последующая подготовка и реализация военной операции в Афганистане, внутриполитические процессы в государствах Центральной Азии, обострение соперничества внерегиональных сил за доступ к энергоресурсам в регионе и усиление комбинационных схем блокирования, союзничества или противостояния в Центральной Азии серьезно повлияли на последующие события.
Первым серьезным признаком изменений сложившейся ситуации стало появление в августе 2002 года аналитического материала известного американского специалиста в области азиатских геополитических исследований Ст. Блэнка под характерным названием: «Реструктурируя Внутреннюю Азию». Основное внимание автор уделил проблеме магистрализации пространств бывшей советской Средней Азии и приграничных с ней территорий, видя в этом единственную возможность политических, экономических и социальных преобразований, способных ликвидировать географическую замкнутость, способствующую сохранению здесь социально-экономической отсталости и неэффективных политических режимов.
В феврале 2004 года появился расширенный доклад сотрудников американского Института анализа внешней политики (Institute for Foreign Policy Analysis) Жаклин Дейвис и Майкла Свини «Центральная Азия в стратегии США и оперативном планировании: Куда мы направляемся?». Суть выдвигавшейся ими геопространственной проекции заключалась в выдвижении двух взаимосвязанных тезисов: «При переосмыслении нашего подхода к Центральной Азии Соединенные Штаты должны придерживаться двух стратегических соображений. Во-первых, они должны определять и разделять Центральную Азию и Кавказ. Проводя тесную связь между Кавказом и Центральной Азией, мы ограничиваем себя в том, чтобы разрабатывать более креативное представление о том, как эти два мировых региона связаны с их наиболее естественными соседями – особенно со Средним Востоком, Южной Азией и Восточной Азией в случае с Центральной Азией. Со своей стороны, Кавказ сам по себе, вероятно, более приемлемо рассматривать в широком смысле приморской зоной Черноморья и как «окончание» Европы, нежели как придаток Азии или прибрежную часть Каспийского моря.
Во-вторых, что связано с вышесказанным, Соединенные Штаты должны продолжать движение помимо существующей точки зрения на Каспий как главного места для безопасности «Евразии». Каспийские углеводородные ресурсы важны для мировых энергетических рынков, но они не являются революционными; более того, они даже не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы избежать продолжающейся зависимости от Персидского залива как главного мирового региона, производящего нефть и газ. Таким образом, Каспийский регион не должен рассматриваться как ось стратегии США в отношении и Кавказа, и Центральной Азии».
Зимой-весной 2005 года Центральная Азия, по мнению аналитиков и экспертов, была способна в целом изменить ситуацию в Содружестве. Основной причиной подобного развития событий становилось несоответствие сформировавшихся общественно-политических систем объективным политическим, социальным и экономическим условиям, в которых они существовали. Примечательным фактом в этом контексте становилось стремление Москвы создать в рамках СНГ общий Совет безопасности, способный в дальнейшем превратиться в надправительственный орган по координации усилий, направленных на недопущение изменений в виде так называемых бархатных революций. Жесткий отказ Украины от самой идеи подобной структуры на время затормозил ее создание, однако для режимов Центральной Азии такая форма координации могла оказаться приемлемой.
Во многом данная позиция обуславливалась тем, что, как отмечали американские эксперты еще в конце 2004 года, «страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — столкнутся с серьезным выбором сохранения социального мира в контексте увеличивающегося роста населения, относительно молодого населения, ограниченных экономических перспектив и ростом радикального исламского влияния». В то же время для большинства аналитиков было ясно, что без решения «системных проблем» стран региона они превращались в источник потенциального регионального конфликта. Именно это обстоятельство обуславливало и соответствующий вывод экспертов: «Государства Средней Азии слабы и имеют достаточный потенциал для религиозных и этнических конфликтов на ближайшие пятнадцать лет. Религиозные и этнические движения могут дестабилизировать этот регион. Похоже, Евразия станет более разобщенной, несмотря на тот факт, что противоположные демографические тенденции – такие, как нехватка рабочей силы в России и западной Евразии и ее переизбыток в Средней Азии, – могут помочь региону сплотиться. Более того, вполне вероятно, что Россия будет сотрудничать со среднеазиатскими государствами в расширении транспортных коридоров для поставок электроэнергии».
Внутриполитический аспект проблемы влиял и на формулирование пространственной концепции центральноазиатского геополитического массива. Китайские эксперты еще в первой половине 2005 года обращали особое внимание именно на этот фактор региональной политики, рассматривая ШОС как инструмент «консервации» ситуации в странах Центральной Азии и контролируемых изменений в будущем. Они, в частности, отмечали, что «нынешние лидеры центральноазиатских государств в большинстве своем пришли к власти после распада Советского Союза, и в соответствии с конституционными положениями и по естественным причинам эти страны через несколько лет войдут в период смены руководства. Во всех центральноазиатских республиках государственная власть сосредоточена в руках президента, что обеспечивает относительную стабильность. Однако поскольку власть в Центральной Азии в определенной степени основана на авторитарных принципах, там отсутствует сбалансированная структура политических сил, несовершенны структура и механизм нормальной передачи власти. Поэтому уход президента может привести к обострению борьбы за власть, что при неблагоприятном развитии событий способно вызвать значительные политические и социальные потрясения и, как следствие, резкие изменения политического курса». Местные эксперты, специализирующиеся на вопросах политического развития государств региона и их внешней политики, обращали внимание на конкретные примеры изменения внешнеполитических ориентиров правящих в странах Центральной Азии режимов.
В этой связи стратегические цели и тактические маневры внешних сил превращались в предмет особого интереса как местных, так и зарубежных политических комментаторов, а также экспертов. Они отмечали, что «стратегия Москвы в Узбекистане, похоже, нацелена на поиск трещин в существующих альянсах и последующем их расширении». Одновременно политологи из центрально-азиатских стран, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, приходили к выводу о том, что «для успешного продвижения России необходимо, прежде всего, установить контроль над геополитическими и геоэкономическими процессами в нашем регионе и в перспективе занять место центрального игрока, закрепив за собой право устанавливать собственные правила игры и диктовать свои условия партнерства по ключевым направлениям сотрудничества с остальными странами мира».
Начавшаяся в американской политологии иерархическая концептуализация географического пространства Центральной Азии была продолжена в работе Фредерика Старра. В специальном аналитическом материале «“Партнерство Большой Центральной Азии” для Афганистана и его соседей», опубликованном Совместным трансатлантическим центром исследований и политики Университета Дж. Хопкинса в марте 2005 года, его автор определил реальную (а не приписываемую ему рядом тенденциозно настроенных интерпретаторов и толкователей) цель выдвигаемого в утилитарном отношении геопространственного концепта: «Задачей является оказание содействия трансформации Афганистана и всего региона, ядром которого он является, в зону обеспеченных с точки зрения безопасности суверенных государств, разделяющих принципы жизнеспособной рыночной экономики, секулярных и относительно открытых систем правления, уважающих гражданские права и поддерживающих позитивные отношения с США. Появление этой зоны, которую с этого момента можно называть как «Большая Центральная Азия», отбросит силы, способствующие росту экстремизма, и усилит континентальную безопасность».
Именно в этой работе была озвучена проблема реинституциализации государственных ведомств США в контексте стоящих перед Вашингтоном региональных внешнеполитических задач: «Географическое перераспределение внутри некоторых институтов США препятствует возникновению зоны «Большой Центральной Азии», ядром которой является Афганистан. Так, в частности, в Министерстве обороны и в Государственном департаменте пять бывших российских республик Центральной Азии сгруппированы вместе с Россией под названием Евразия, в то время как Афганистан находится в отделе Южная Азия. Такое распределение делает практически невозможным для правительственных институтов США осознать многие общие интересы государств БЦА, и, более того, оно не позволяет делать анализ наиболее выгодных отношений между странами БЦА и их многими региональными соседями».
Участившиеся на протяжении 2005-2006 годов попытки политических кругов ряда не входивших в евро-атлантическое сообщество стран представить происходящее в Центральной Азии как повторение на новом историческом этапе «Большой игры», получили соответствующую интерпретацию американских экспертов, пришедших к выводу о том, что «проблемы безопасности в Центральной Азии стали намного сложнее, чем в период подлинной Большой игры в XIX веке между царской Россией и Великобританией. В то время эти два правительства могли в основном доминировать в региональных делах, но сегодня в них вовлечено множество влиятельных игроков. Начало 90-х годов ХХ века стало свидетелем жесткого соперничества Турции и Ирана в Центральной Азии. Совсем недавно Индия и Пакистан реализовали смесь политики сотрудничества и соперничества в этом регионе, который испытывал на себе влияние их взаимоотношений в более широком смысле». Ряд представителей немногочисленного независимого экспертного сообщества стран Центральной Азии также приходили к мысли о том, что так называемая Большая игра является лишь фактом конкретного исторического периода и не корректно применять это название для современной ситуации в регионе.
Ряд политических обозревателей, а также экспертов, работавших по региональным проблемам Центральной Азии, склонялись к мысли о том, что лишь после визитов в центральноазиатские страны государственного секретаря К.Райс отдел Госдепа, занимавшийся Южной Азией и созданный в 1992 году, был реорганизован в первой половине января 2006 года с тем, чтобы включать в свою зону ответственности государства бывшей советской Средней Азии. Данное обстоятельство нередко используется для доказательства окончательного перехода американской дипломатии на позиции геопространствнного концепта «Большой Центральной Азии».
В то же время историографическая составляющая концептуализации мегарегионов или панрегионов выявила определенные закономерности данного процесса применительно к Азии, что имело объективные причины. Эволюция геопространственных представлений в мировой политике прошла несколько этапов, отмеченных рядом политологов в 2006 году. Они полагали, что «Центральная Азия является лишь одной из базовых региональных подсистем в международных отношениях, которые составляют Центральную Евразию. Другими выступают Юго-западная Азия и Южная Азия. Все три подсистемы в целом раздельны и не перекрещиваются. В 1989-1994 годах происходило геополитическое расширение до масштабов Большой Юго-западной Азии; Центральной Азии до уровня Большой Центральной Азии в 1995-2000 годах; в свою очередь, Южная Азия трансформировалась в 2001-2006 годах в Большую Южную Азию. Эти «Большие» составляющие взаимно наложились друг на друга, и их перекрестие – это ключ к будущим международным отношениям в Большой Центральной Азии и Центральной Евразии в целом».
Актуализация геопространственного концепта мегарегионов (панрегионов) во внешнеполитических концепциях ряда стран и, прежде всего, в их озвучиваемом виде, как это было сделано американскими политологами и политиками, привлекла внимание не только и не столько экспертного сообщества, сколько представителей политических кругов, политизированных представителей академической науки и публицистов. Осторожно-нейтральное или враждебное отношение к методу «географического слияния» исторических географических регионов было обусловлено субъективными причинами и поиском вероятных интенций монопольного господства конкретных стран в центрально-азиатском секторе мировой политики.
В то же время выдвижение на первый план во внешнеполитическом планировании так называемых динамических моделей пространственных сетей (Spatial Network Dynamics Model), имевших на ранних этапах своего развития исключительно функциональные задачи магистрализации пространства приобрело значение как «символа политической функции» в двух аспектах: обеспечении безопасности (то есть геостратегическое планирование) и создание равных условий для внутриполитического развития стран региона при всей неравномерности этого процесса в рамках единого геополитического поля. Вне всякого сомнения, выполнив свое предназначение, этот неоконцепт перестанет существовать как некая руководящая мировоззренческая доктрина во внешнеполитической мысли конкретных государств, придерживающихся его ныне.
Артём Улунян, доктор исторических наук, сотрудник Института истории РАН (Москва)