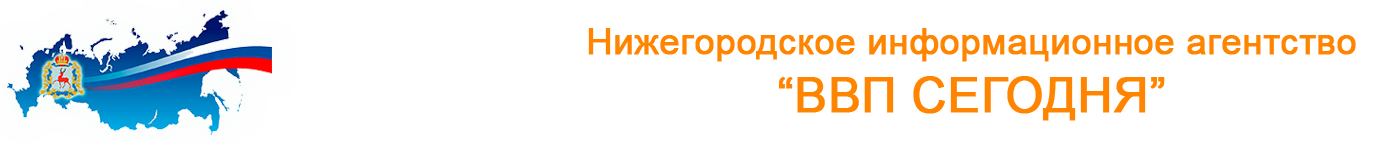Каждый четвертый гражданин Таджикистана живет и работает в России. В социально замкнутом холодном пространстве.
Ксения Диодорова, график-дизайнер из Петербурга, увлекается визуальной антропологией. Ее документальные проекты посвящены сообществам, сохраняющим свою идентичность – или пытающимся ее сохранить. Минувшей зимой Ксения отправилась в Таджикистан и провела месяц в горных районах республики, жила в кишлаках долины Бартанга в Горно-Бадахшанской области.
Первая часть проекта «В холоде» посвящена вот этой высокогорной реальности: семьям памирцев, их традициям и быту, их лишениям и зимним холодам. А вторая часть – о таджиках Петербурга и Москвы, о выходцах из тех семей, которые живут на Памире, гастарбайтерах, ставших в России строителями, дворниками и кассирами. «В холоде» – альтернативная история трудовой миграции из Таджикистана, рассказ о ней изнутри, или, если хотите – рассказ «с начала».
– Первая моя идея была такой – сделать серию портретов трудовых мигрантов – женщин, – рассказала Радио Свобода Ксения Диодорова. – Только женщин. Я, как правило, не занимаюсь постановочной съемкой, а здесь хотела сделать как раз постановочные, студийные портреты, со светом, показать трудовых мигрантов не как кассирш из магазина

«Перекресток», а как прежде всего красивых женщин. Вот ты смотришь на фотографию красавицы, а потом читаешь, что она – трудовой мигрант. У нас в подъезде живет семья таджиков – муж и сын убирают во дворе, а жена в подъезде – так вот я как-то встретила эту женщину и обратила внимание на то, что она удивительно красива. Ход, с помощью которого можно было бы раскрыть тему трудовой миграции, показать ее как-то по-другому, подумала я. Меня очень беспокоит отношение в России к трудовым мигрантам, и мне показалось интересным подать проблему как бы в обход – не изображать этих людей с метелками и мешками цемента в руках, а как-то повернуть историю по-иному.
Мне всегда очень хотелось снять историю про изоляцию, когда высокогорная деревня на зимнее время оказывается отрезанной от мира и люди живут там в совершенно другом потоке времени, которое совершенно не знакомо городскому человеку. Я познакомилась с одним антропологом, который заразил меня Памиром. В общем, все эти идеи и дали в результате концепцию – снять проект про родителей трудовых мигрантов, которые живут в горах, и про их детей, которые работают в России. Я выбрала долину реки Бартанг (это приток Пянджа), потому что там самые плохие дороги на Памире. Там, где самые плохие дороги, соответственно, труднее передвигаться и сохраняется больше традиций. А моя задача была как раз про традиции – показать родителей, дом, ту землю, на которой выросли трудовые мигранты, «в чистом виде». Весь месяц, пока я жила в Таджикистане, переезжала из кишлака в кишлак в долине Бартанга, 5-6 кишлаков, жила по несколько дней в разных семьях.
– Это совершенно затерянный мир?
– В каком-то смысле да, затерянный. Но для меня это были самые прекрасные каникулы, потому что там нет ни мобильной связи, ни Интернета. И сказать, что памирская жизнь производит угнетающее впечатление, я не могу. В привычном, западном смысле развития люди там, конечно, оторваны от цивилизации и живут словно на несколько шагов назад. Сначала мой проект назывался «Потерянные в холоде» – не просто «В холоде», мне казалось важным слово «потерянные». А потом это слово исчезло. Они не потерянные, они просто живут по-другому.
– Холод там преследовал вас постоянно? Или это красивая метафора?
– Моя история двусторонняя: часть снята на Памире, а вторая половина съемок – в России. Всюду свой холод. Те, кто живут на Памире, испытывают климатический холод, они существуют в чистых природных условиях, а их родственники живут в России в социальном холоде. Такая метафора была.
– Какой же холод сильнее – социальный или климатический?
– Все герои этого проекта настолько внутренне сильны, что кажется, им все нипочем. Это люди, которые никогда не говорят о том, как им плохо – ни там, на Памире, ни здесь, в России.
– Где именно вы работали над второй частью вашего проекта?
– Я снимала в Москве и в Московской области, в Петербурге и в Ленобласти.
– Вас удивили какие-то семейные или личные истории героев проекта?
– На самом деле практически каждая семья и каждая история связана с какими-то трогательными моментами. Вообще, весь этот проект принес мне огромный опыт и вызвал во мне целый пласт новых ощущений. Я часто езжу по стране и миру, много общаюсь с разными, в том числе восточными людьми, но те качества, которые я встретила в своих героях, – я имею в виду их отношение к жизни – стали для меня

удивительным впечатлением. Я, например, совершенно по-другому стала воспринимать понятие «уважение». Считается, что в восточной культуре это понятие имеет другие масштабы. Вот очень хороший пример. Один из моих героев сказал: «Что для тебя уважение? Это когда тебе бабушка твоя говорит: «Ксюша, не кури, пожалуйста!», и ты ей говоришь: «Ну, хорошо, бабуль!» – и продолжаешь курить. А у нас уважение – это когда ты тушишь сигарету и больше никогда не куришь». Это как бы такое чувство долга, жертвы и смирения в самом большом и глубоком смыслах этого словa.
Самая распространенная ситуация, которая больше всего меня тронула, – это то обстоятельство, что из-за миграции дети растут без родителей. Дети трудовых мигрантов не видятся со своими мамами и папами по несколько лет. Есть одна семья, в которой муж с женой 17 лет назад уехали в Москву с Памира – и жена беременела, уезжала на Памир, рожала там ребенка и возвращалась в Москву. Одной из их дочек сейчас 6 лет, а отец ее даже не видел, потому что у них нет возможности накопить денег на два билета.
– Что же, сплошные беспросветные трагические истории?
– Да нет, во всей этой истории вообще нет ничего однозначного, нет ничего чисто плохого или чисто хорошего. Я же говорю: вы от этих людей никогда не услышите, что им плохо. Когда слышите какую-нибудь такую историю – она для вас трагична, а для них нет, почему я и говорила о смирении. Для них это просто жизнь, эстетику которой они воспринимают во всех проявлениях, и совершенно неважно, больно от этого или весело. Поэтому я и говорю о внутренней силе этих людей. Практически все герои, с которыми я общалась, – очень веселые, отзывчивые люди, с которыми можно смеяться, которые говорят, что им нравится в Москве. Я,

правда, не встречала таких, кто может конкретно это объяснить – кроме того, что, как они говорят, в Москве веселее, чем в кишлаке. Я ни в коем случае не могу сказать, что их жизнь – это беспросветная трагическая история, это просто такая форма существования.
– Неужели они не жалуются даже на поборы со стороны милиции и чиновников?
– Я вам на этот вопрос сложным путем отвечу. Очень большая редкость для документальных проектов, которыми я занималась, когда герои осознают, что делается и зачем. То есть ты всем героям объясняешь, что ты делаешь такой проект потому-то, что у тебя такая-то идея, и вот я надеюсь, что этот проект будет иметь вот такой эффект, эдакий результат. А героям «В холоде» ничего не нужно было объяснять – они прекрасно понимают, почему я это делаю, понимают, что проблема отношения к ним и вообще вопрос толерантности стоят в России очень остро. Я никогда не слышала от них никаких жалоб. Одного из моих героев ткнули отверткой в метро под сердце националисты, он чуть не погиб, лежал месяц без движения, но его выходили, и он остался в Москве. Даже эта история была рассказана как-то между делом и не с целью пожаловаться, а типа смешно: «Я сначала этого не заметил, сел в электричку, а потом мне какая-то женщина сказала: «У вас, мужчина, куртка в крови», ха-ха-ха».
– А как ваши герои относятся к России и к русским, к стране, которая дала им восхитительную возможность стать дворниками и уборщиками? Они ненавидят эту страну, со смирением относятся к ней, она их восхищает или эта страна – памирская неизбежность?
– Они и к России относятся просто как к части жизни. Понятно, что большая часть трудовых мигрантов живет здесь в социальной изоляции, потому что они очень плохо интегрируются, несмотря на то, что – кстати говоря! – все мои герои прилично говорят по-русски. Горно-Бадахшанская автономная область тесно с Россией сосуществовала, там вообще все хорошо, даже в кишлаках, говорят по-русски. В этом смысле проблем с интеграцией нет, но мигранты все равно не ассимилируются, не общаются с Москвой и Питером, у них нет русских друзей. Конечно, они воспринимают Россию как некую возможность выживать. Они осознают, что это трудно, они осознают, что отношение к ним неоднозначно.
– Отсутствие социальной перспективы их не пугает? Люди по шесть лет не видят своих детей, и впереди у них все то же самое…
– Мне все время казалось, что такая ситуация должна угнетать. Была одна девушка среди моих героинь: в разговоре вдруг оказалось, что она окончила в Душанбе университет, что у нее высшее филологическое образование, а вот теперь она работает кассиром в KFC. Я удивилась и спрашиваю: «А не хочешь ли ты попробовать давать частные уроки

фарси?» Я, например, в свое время искала преподавателя фарси, по-моему, это очень актуальная штука в Петербурге и Москве. Но она сказала, что ей это вообще неинтересно, что она здесь ничего не хочет, и единственное, почему она приехала в Москву, – быть около мужа, чтобы у них получился ребенок.
По моим наблюдениям, не только среди моих героев, а в культуре этих людей вообще другие понятия о самореализации. У многих нет личных творческих или профессиональных амбиций. Понятно, что это в основном простые люди, но среди них есть и такие, кто получил высшее образование. Среди моих героев, которые работают на стройке, есть даже кандидат биологических наук, но у него и мыслей нет попытаться устроиться на работу по профессии. То есть для них жизнь – череда исполнения долга, разного долга: перед детьми, перед родителями. Есть один парень, ему 26 или 27 лет. В принципе, пора жениться, но он не женится, потому что работает здесь на стройке, помогает своей семье, и ему некогда искать любовь. Он говорит: «Мне главное, чтобы родители и сестры стояли на ногах». То есть он посвящает свою жизнь тому, чтобы его родители и его сестры стояли на ногах, и для него это – главная самореализация.
– Это набожные люди в большинстве своем?
– Я бы не сказала. Дело в том, что регион, в котором я работала, имеет свою специфику: памирцы исповедуют версию ислама, которая достаточно сильно отличается от привычного понимания религии. Это гораздо более мягкое направление. Когда я ехала туда, мне было тревожно немножко: ну вот я еду в кишлак, традиционное место, долина, которая сохранила культурную целостность, и мне там, наверное, будет трудно – девушка, одна, с фотоаппаратом, еще и курит… Думала: как же я буду снимать, в длинной юбке ходить, в платке? Ничего этого вообще не было, никто мне ни разу ничего не сказал, не посмотрел косо. Это люди, которые совершенно точно верят в Бога, но не фанатично.
– Это совсем чужой для москвича и петербуржца мир? Мировосприятие совсем другое?
– Совсем другое. Этот проект, в том числе, и про разницу мировосприятий, и про пагубность стигматизации. Я всегда настораживаюсь, когда говорят: «эти русские», «эти таджики»… Мой проект вот про что: нет этого, не бывает «в общем таджиков», все люди очень разные. В Питере я знаю массу людей, для которых горная культура и памирская среда будет очень близкой, понятной и комфортной, как для меня теперь, например. А есть люди, которые смотрят на фотографии этого проекта и говорят: господи, какой кошмар, какая помойка, почему я должен смотреть на этих людей, которые спят на полу, испытывать к ним какое-то уважение…
– Я полагаю, одна из задач вашего проекта – преодоление и развенчание стереотипов. Перечислите пару-тройку этих стереотипов, которые, как вам кажется, с помощью вашего проекта вы сможете расколоть в щепки и растереть в песок?
– Стереотипы о трудовых мигрантах касаются в основном таджиков, «таджик» стало нарицательным словом. Трудового мигранта, любого, который имеет смуглую кожу, называют таджиком, хотя он может быть хоть пакистанцем. В Москве и Питере полно узбекских кафе, а таджикских кафе нет, хотя изначально в основном эта кухня – таджикская. Таджикистан – очень древняя культура, с очень глубокими традициями, и мне хочется через мировоззрение простых людей показать, что в их философии содержится большое богатство. Все не так просто, как кажется: типа жен из дома не выпускают, ходят все в платках, живут в грязи, руки не моют, спят на полу, в общем – «чурки». Это первое, чего мне хочется избежать. И я знаю, что среди моего обозримого круга людей это уже действительно возымело эффект, и мне очень приятно, когда люди говорят: «А ты знаешь, я стал по-другому на эти вещи смотреть». Все остальные стереотипы, как то – «трудовые мигранты отнимают наши рабочие места», «почему они не строят жизнь у себя в Таджикистане, а приезжают к нам», «почему у них звериный взгляд», – на это мне не удастся повлиять. Эти вопросы – не межчеловеческого уровня, на котором я работаю, они относятся к государственным, политическим делам, к пропаганде, которых вообще нет в этом проекте. Мой проект – от человека к человеку.
– Что теперь будет со всем собранным материалом, что вы из этого хотите сделать?
– Материал включает и видеосъемки, и интервью, и записи традиционной музыки, и фотографии. Уже сделан достаточно масштабный мультимедиапроект, который живет в Интернете. Конечная форма этого проекта – книга, макет которой я сейчас готовлю, она должна выйти в сентябре, если удастся найти на нее средства. До сих пор я все делала на свои личные деньги, это мой персональный независимый проект, но теперь понимаю, что без краудфандинга не обойтись. Чего я добиваюсь, что сочту успехом? Вот что: «Я сегодня сел в маршрутку и сказал водителю не «ты», когда увидел, что он таджик, а общаюсь с ним вежливо, как с человеком». Это единственное, чего я хочу, – говорит Ксения Диодорова.
Андрей Шарый, Радио Свобода