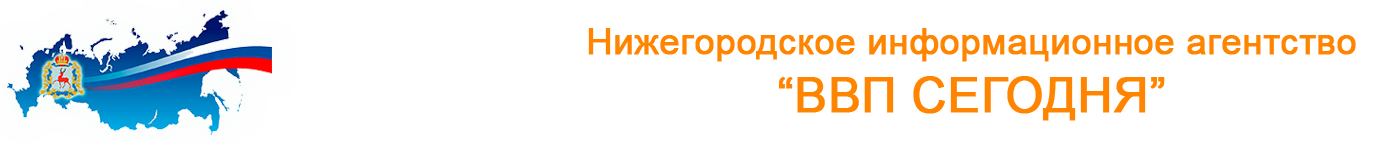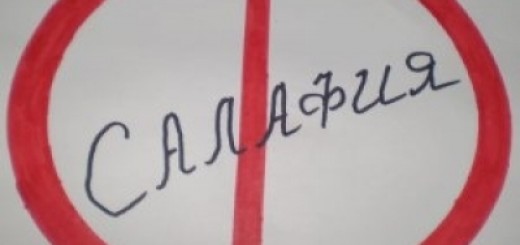Если версия властей будет неопровержимо доказана, то данный факт станет первым свидетельством проникновения ИГ на территорию постсоветских стран Средней Азии. В статье анализируются причины, по которым жители Центральной Азии вступают в ИГИЛ.
Авторы предупреждают: нужно учитывать все факторы, и религия здесь не так важна, как политика.
Несмотря на то, что известные нам факты немногочисленны, они все же позволяют предполагать, что «нерелигиозные» причины, в силу которых жители Центральной Азии вступают в ИГ, гораздо важнее, чем собственно религиозные факторы, на которых часто настаивают аналитики.
Почти год умы экспертов по вопросам безопасности стран Центральной Азии занимает вопрос о причинах, по которым жители центральноазиатских стран присоединяются к «джихаду» самопровозглашенного «Исламского Государства Ирака и Леванта», а также о том, как это влияет на безопасность в регионе.
Не так давно различные эксперты, среди которых и члены Международной Кризисной группы, и приглашенные колумнисты The New York Times, заявляли, что это свидетельствует о широкой радикализации региона, к чему лишь немногие журналисты отнеслись с долей скептицизма.
В течение многих лет правительства стран Центральной Азии, в страхе перед собственным народом и в желании сохранить власть любой ценой, использовали «борьбу с терроризмом» для негласного подавления любых проявлений ислама, от обучения [в религиозных школах] за рубежом до отращивания растительности на лице, — если эти явления не были санкционированы властями.
Некоторые западные чиновники, как, например, заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дэниел Розенблюм (Daniel Rosenblum), выражают оптимизм по поводу улучшения ситуации в регионе. Но правительства этих государств продолжают спонсировать программу «Противодействие насильственному экстремизму» (CVE), словно их усилия (в связке с коррумпированными режимами в регионе) могут перевесить риски (по насильственному экстремистскому свержению этих режимов).
Но насколько глубоки наши сегодняшние знания о «радикализации» в Центральной Азии? Исходя из наших докладов прошлого года, можно сделать вывод, что мы, эксперты, знаем очень мало, но и то, что мы знаем, позволяет предположить, что никакого процесса широкой радикализации, ведущего к массовой поддержке экстремистских движений в регионе, не происходит.
Это верно как в отношении привлечения бойцов в ряды ИГИЛ, как и в отношении различных экстремистских организаций, которые остаются слабыми в пяти бывших республиках Советского Союза, так и в отношении призыва воевать в Афганистане в девяностые и двухтысячные.
Мы назвали идею о социетальном сдвиге региона к радикальному исламу «Мифом о постсоветской мусульманской радикализации» и указали на разрушительные последствия, вызванные легитимизацией репрессий в отношении неофициального ислама и оправданиями контр-продуктивного международного партнерства во имя «дерадикализации».
Конечно, легко критиковать, стоя на академических позициях, когда тебя не привлекают к принятию политических решений. Также легко указывать на то, что относительно малое количество членов ИГИЛ было рекрутировано в странах Центральной Азии по сравнению со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.
Это, в некотором смысле, акцентирует вопросы методологии: что источники малочисленны, что корреляция событий не означает их причинно-следственную связь и что объяснение поведения крошечного меньшинства нельзя автоматически переносить на большинство.
Тем не менее, вопрос остается открытым: что нам известно о причинах присоединения к ИГИЛ выходцев из Центральной Азии?
Мы провели второй семинар на тему «Ислам, секуляризм и безопасность в Центральной Азии» в Университете Джорджа Вашингтона при поддержке программы Британского совета США 20-21 апреля 2015г. Наши эксперты, принимавшие участие в семинаре, обсудили аспекты взаимодействия светских государств с мусульманскими сообществами в Центральной Азии, а также вопрос о природе радикализации в регионе.
Ноах Такер (Noah Tucker), один из участников диспута, считает: «Жители региона, которые либо поддерживают, либо желают прихода ИГИЛ, — это, в большинстве своем, молодые трудовые мигранты, которые мало знают об Исламе как о религии. Скорее, они видят в Исламе возможность обрести утешение, объяснение экономических трудностей и дискриминации, которую они испытывают на себе».
Помимо работ Такера об узбеках и Эдварда Лемона о таджиках, есть еще очень немного опубликованных исследований о вербовке в ИГИЛ в Центральной Азии.
Оценки численности завербованных колеблются от консервативной цифры в 1000 человек, как утверждают официальные лица из пяти постсоветских республик, до спекулятивных 2000 и 4000, цитируемых ICG.
Но этого недостаточно и для того, чтобы делать объективные выводы, необходимо опираться и на исследования еще в трех областях: о вербовке ИГИЛом в других регионах; о природе радикализма и насильственного экстремизма; о политике и вопросах безопасности в странах Центральной Азии.
Мы утверждаем, что только исследование всех этих факторов в совокупности может пролить больше света на то, почему жители Центральной Азии присоединяются к ИГИЛ. Хотя каждый случай специфичен, существуют общие факторы – общие для этих, в основном, молодых мужчин, которые были введены в заблуждение джихадистской онлайн-пропагандой и отправились в Ирак/Сирию.
Однако, хотя эти факторы и оказывают влияние на выходцев и Центральной Азии, они не являются определяющими ни для жителей региона, ни для Ислама в целом. Термин «радикализация» многих вводит в заблуждение.
В то же время бренд ИГИЛа привлекает людей со всего света, тем самым создает почву для лучшего понимания ситуации молодых мусульман, которые живут и растут в условиях так называемой «борьбы с экстремизмом».
Возможность взбунтоваться
Во-первых, как известно из литературных источников, бунтовщик должен иметь возможности для бунта. Этот факт может показаться очевидным, но он объясняет, почему обеспеченные мусульмане Европы, как и те, кто живет неподалеку от зоны конфликта на Ближнем Востоке, могут запросто сесть в самолет или автобус и добраться до границы, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Жители Центральной Азии не имеют такой возможности в силу отсутствия средств, а также из-за жесткого контроля над гражданами со стороны властей.
Исследования подтверждают, что основной поток завербованных жителей Центральной Азии идет в Ирак/Cирию через Россию, где их вряд ли будут столь жестко контролировать среди сотен тысяч трудовых мигрантов. В Москве и прочих крупных городах России, население каждого из которых превышает все сельское население Кыргызстана и Таджикистана, гораздо больше возможностей для претворения в жизнь «политики массового набора».
В любой сельской местности в Центральной Азии всякое отклонение в поведении сразу становится заметным. Этот неформальный контроль гораздо более эффективен, чем бюрократический, но в большинстве случаев он дополняет государственное давление, а не работает против него. Мест, где подобный мониторинг разрушен, крайне мало в Центральной Азии, и поэтому случаи радикализации редки.
Антисветские политические идеи
Среди миллионов мигрантов из Центральной Азии, которые приезжают в Россию, лишь очень маленькая часть вербуется в ИГИЛ. Те немногие, кто делают этот выбор, яростно заявляют о своих консервативных и антисветских политических идеях. Они выступают против политики Запада на Ближнем Востоке и помощи режимам Центральной Азии. Они подчеркивают богопротивность светских обществ, говорят о непонимании сути Ислама и грубом контроле со стороны центральноазиатских правительств.
Это недовольство не является определяющей причиной, оно – лишь часть общей картины. Но, как отмечал Петер Ньюман (Peter Neumann), в насильственном экстремизме идеи имеют значение.
Подобные идеи ведут завербованных совершенно в иную плоскость — в отличие от тех мусульман, которые больше поддерживают популярные в Центральной Азии движения, такие как «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане (в те времена, когда движение еще не было запрещено) или «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) в Таджикистане (которая заявляла когда-то о 40.000 членов и до недавнего времени оставалась легальной).
Эти группы, как и их члены, частично или полностью секуляризированы в своих политических взглядах и не обязательно исповедуют антизападную идеологию. Идея некоторых западных аналитиков, что эти группы тоже находятся на пути к радикализации, не дает им заметить, что эти группы согласны со светским характером государства, что создает серьезный разрыв между ними и экстремистами.
«Идеология экстремизма» часто отождествляется со специфическим религиозным учением. Нет сомнений, что ИГИЛ – группа, чья идеология ненависти и саморепрезентация являются исламистскими, – об этом говорят и заявления Абу Бакра аль-Багдади о создании Халифата с его частыми ссылками на Коран, и ежедневная пропаганда ИГИЛ.
Многие эти идеи являются консервативными (в смысле желания вернуться в воображаемое прошлое) и нерадикальными (в смысле стремления к инновациям, изменениям и прогрессу). В этом смысле термин «радикальный» также вводит в заблуждение.
Кроме того, есть ли у нас доказательства, что эти идеи, прежде всего,религиозные и предлагающие последовательную и стройную богословскую, юридическую и практическую альтернативу мусульманскому населению Центральной Азии? Очень мало. Идеи ИГИЛ подаются в «упаковке» борьбы с «кяфирами» (неверными), но это маргинальная идея для большинства легальных исламских школ.
Уровень религиозных знаний и образования в Центральной Азии остается очень низким; те же, кто отправляется в Ирак/Сирию, редко делают теологические отсылки в своих заявлениях, на страницах в социальных сетях, но обсуждают самые общие практические вопросы, через них демонстрируя собственную религиозность. Для социолога религиозная риторика ИГИЛ выглядит как побочный эффект экстремизма, а не его первопричина.
Политические идеи о репрессиях мусульман кажутся несколько более важными. И такими идеями может оперировать тот, у кого мало или вовсе нет знаний об исламской юриспруденции или традиционной практике молитв, богослужений и соблюдения ритуалов. Это важное для анализа различие между политикой и религией – различие, которое не отражается ни в самой экстремистской идеологии, ни в ее светской аналитике, — и которое необходимо учитывать, если мы хотим понять, почему ИГИЛ привлекает в свои ряды и мусульман, и немусульман, у которых знание ислама крайне низкое.
Волнительность бунта, возможность борьбы и бредовые идеи величия, которые предлагаются ИГИЛ, цитируются и транслируются чаще всего. В этом смысле типичными являются протесты Гулмурода Халимова, командира спецназа Таджикистана, который обнаружился на территории, контролируемой ИГИЛ: он выступает против США, России и Таджикистана за их притеснения и убийства мусульман.
Это – антисветская политика ИГИЛ, а не вопросы теологической или религиозной практики, и это объясняет, что привлекает в ИГИЛ таких жителей Центральной Азии, как Халимов, которые ни сейчас не проявляют особого благочестия, ни в своей прежней жизни не шли «путем праведника».
Воздействие насилия
Есть, вероятно, много мусульман, которые также придерживаются подобных взглядов и могли бы присоединиться к ИГИЛ, но решили не делать этого. Данные показывают, что третий фактор – воздействие насилия – является триггером (спусковым крючком) для принятия подобного решения. Именно поэтому главная поддержка «джихада» исторически существует там, где насилие превалирует: в зонах боевых действий или лагерях беженцев. Участие Халимова в боевых действиях против таджикских мусульман в Раште (2010) и Хороге (2012), а также в программе обучения в рядах американского спецназа нужно считать важным фактором, хотя и невозможно сказать об этом наверняка. Однако в его пропагандистском видео он обращается напрямую к США: «Вы научили своих солдат, как окружать и атаковать, чтобы истребить ислам и мусульман».
Отсутствие широкого политического насилия в странах Центральной Азии с 1990-х годов, возможно, и есть причина низкой вербовки в этом регионе, в отличие от стран Ближнего Востока и Северной Африки. Однако высокие темпы набора в странах Европы показывают, что базовая безопасность и развитие далеки от того, чтобы видеть в них защиту от проникновения экстремизма.
По данным Международного центра по изучению радикализации, в Великобритании один мусульманин из 4.900 пополнил ряды ИГИЛ, в Бельгии – один из 1.450, в то время, как в Узбекистане – один из 54.000, а в Таджикистане – один из 37.000.
Насилие подразумевает не только физический аспект, но также структурный и культурный. Оно несет угрозу как этнической и гендерной идентичности человека, так и элементарному выживанию. Свидетельства джихадистов – выходцев из западных стран – говорят об их личном опыте столкновения с расизмом в общественной жизни и лицемерием и фальшью дома, что в сочетании с чувством стыда и изоляции повлияло на их вербовку.
Также можно установить связь между уровнем насилия в семье и вовлечением в насильственный экстремизм, который частично заметен в высоко-патриархальных обществах большинства стран Центральной Азии.
Чувство отчуждения и изоляции
Это приводит к четвертому и последнему фактору, который является наиболее личным, наиболее гендерным и, вероятно, наиболее важным: чувство отчуждения и изоляции. В отличие от постепенного процесса усиления собственной религиозности, присоединение к «джихаду» происходит во многих случаях довольно быстро.
Во многих случаях «быстрой исламизации» и западных «джихадистов», неожиданно бросивших учебу в университетах, и современных жителей Центральной Азии, сыграли свою роль социальные и психологические факторы. Сексуальные расстройства и нереализованные амбиции влияют на молодых мужчин во всем мире, вне зависимости от религии, особенно в консервативных социальных контекстах патриархальных семей и авторитарных государств.
Роль, которую играют «джихадистские» группы в создании сообществ, и смысл участия в них часто упоминают те, кто стремится объяснить свое прошлое, отвернувшись от насильственного экстремизма.
Это тот аспект, который может стать причиной беспокойства по поводу Центральной Азии. Ноах Такер, исследуя вербовку узбеков ИГИЛ, заметил, что все они рассказывали очень подробные истории, в которых безработица и разрушенные отношения становились спусковым крючком в движении к бунту и насилию.
«Но общая тенденция, которую я наблюдал среди центральноазиатов, была в том, что молодые люди, которые хотят чувствовать свою сопричастность к чему-то большему, чем они сами, часто оказываются в ситуации, когда они чувствуют себя одинокими и изолированными, — прокомментировал Такер для ВВС. – Они ищут смысл жизни, хотят быть частью чего-то значимого».
Важные социальные и политические процессы в странах Центральной Азии, происходящие с 1991 года, могут оказаться важнее, чем исламизация. Консерватизм и патриархальность, насаждаемые светскими властями, широко понимаются как коррупционные. Растет число ранних браков, усиливаются процессы обнищания, увеличивается миграция.
Уровень образования и здравоохранения падает, возможности найти нормальную работу уменьшаются. Плохо быть молодым сегодня в Центральной Азии, и растет разрыв между родителями, которые получили образование в советское время, и их плохо образованными отпрысками. Отсутствие отцов дома и невозможность найти работу в промышленном производстве больно ударило по мальчикам-подросткам.
В некоторых странах региона сегодня почти 50% населения – молодежь до 16 лет, и они характеризуются этнографом Софи Роше как «потерянное поколение», которое не имеет перспектив найти работу у себя на родине.
Но выдающаяся стратегия выживания подавляющего большинства пожилых людей в Центральной Азии показывает, что авторитаризм и бедность не для всех являются определяющими причинами для насильственного экстремизма, многое зависит от пола и возраста.
Исследования Роше и других показывают, что существует некоторое напряжение среди молодежи, которая становится объектом патриархальных механизмов общественного контроля. В этой среде молодые люди могут обратиться к насилию как способу самоутверждения, демонстрации собственной мужественности и достоинства, — то, что реализуется или в занятиях спортивными единоборствами, или (и) в следовании пропагандистским клише ИГИЛ. Неясно, что именно является катализатором этих процессов: религиозность, или чувство отверженности, или исключение человека из семьи и общества.
Религия – часть общей картины, но не причина
Насильственный экстремизм сегодня, к счастью, довольно редкое явление в Центральной Азии. Два случая массового проявления политического насилия в постсоветской Центральной Азии, которые опосредованно связывают с религиозными факторами, могут оказаться поучительными для тех, кто хотел бы оценить возможность дальнейших вспышек в случае возвращения на родину бойцов из рядов ИГИЛ (хотя Эд Лемон утверждает, что уход в ИГИЛ – часто «билет в один конец»).
Тим Эпкенханс (Tim Epkenhans) в своем исследовании истоков гражданской войны в Таджикистане показывает, что, хотя религиозные дебаты и были важны в спорах духовенства друг с другом и советской властью, они не играли решающей роли в формировании ополчения.
Даже тех, кто считал себя стражами Ислама, в движение приводили различные политические факторы, среди которых идеи политического ислама были на последнем месте.
Таким же образом, в андижанском восстании в Узбекистане, которое правительство представило как исламистское и экстремистское, роль религии была настолько ограниченна, что один из исследователей определил ее как «эпифеноменальную» (Эпифеноменализм – философское течение, отвергающее влияние на физические процессы чувств, мыслей и ощущений).
В обоих случаях религия была частью контекста, а не причиной событий.
В большинстве современных аналитических исследований вопросов безопасности в Центральной Азии упор делается на одном из четырех факторов экстремистской идеологии, в ущерб остальным трем. Этот фактор часто ошибочно называют как «приоритет религиозности», в то время как важно говорить о «приоритете политики».
Вполне возможно, что, перестав зацикливаться на религии, мы сможем увидеть и нерелигиозные факторы, которые действительно важны: как чувство отчуждения и склонность к насилию приводят к анти-светским политическим взглядам ту небольшую часть молодежи, кто имеет возможность и желание вступить в фэнтези-мир ИГИЛ.
Эти четыре фактора важны не только для понимания причин, по которым люди уезжают в Сирию и Ирак, но и для понимания политического будущего государств Центральной Азии. Нам нужно больше информации, нужны более тщательные и глубокие исследования, чем нынешние, мы должны понимать глубинный смысл происходящего.
Необходимо привлекать криминологов, этнографов и исследователей гендерных отношений, а не только изучать вопросы безопасности или «экспертные интервью» на исламских ресурсах, если мы хотим подойти ближе к истине в этом вопросе.
В то же время есть все основания прекращать разговоры о благочестии и мечетях, словно они стали главной причиной и источниками опасности, и взглянуть, наоборот, на нерелигиозные причины того, почему громкий онлайн призыв ИГИЛ присоединиться к халифату не был услышан в Центральной Азии. ИА Фергана